№ 5-2003-1 |
В.Я. Пащенко _________

Датой рождения евразийства — одного из наиболее оригинальных идейно-политических, философских учений русского послеоктябрьского зарубежья — принято считать август 1921 г., когда в Софии вышел в свет первый коллективный сборник статей четырех авторов, кн. Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, П.П. Сувчинского и Г.В. Флоровского под общим названием «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждения евразийцев». Евразийцы подчеркивали, что название учения «евразийство» проистекает не из механического сочетания географических терминов «Европа» и «Азия» (по А. Гумбольдту), а обозначает «месторазвитие», «вмещающий ландшафт», особую цивилизацию, сферы взаимопроникновения природных и социальных связей русского народа и народов «Российского мира», являющихся не европейцами, не азиатами, а именно евразийцами. Географически этот «континент-океан» (П. Савицкий) ориентировочно совпадает с границами Российской империи в последние годы ее существования. Именно здесь, по убеждению евразийцев, сложилась уникальная цивилизация, качественно отличающаяся от европейской и азиатской, со своей уникальной историей и культурой, с особым менталитетом народов, населяющих эту огромную территорию.

Евразийство объединило плеяду молодых талантливых исследователей из разных областей знания — философов, богословов, культурологов, экономистов, искусствоведов, историков, географов, писателей, публицистов. Несомненный духовный лидер евразийства князь Н.С. Трубецкой — культуролог, лингвист, философ. Организатором евразийства как общественно-политического движения был П.Н. Савицкий — экономист, географ, главным философом евразийства в течение ряда лет — Л.П. Карсавин. В движение входили философы и публицисты Г.В. Флоровский, В.Н. Ильин, Б.Н. Ширяев, историки и литературоведы Г.В. Вернадский, Д.П. Святополк-Мирский, В.П. Никитин, искусствовед П.П. Сувчинский, писатели В.Н. Иванов, Э. Хара-Даван, правовед Н.Н. Алексеев и др. Некоторое время движение поддерживали философ С.Л. Франк и культуролог П.М. Бицилли. Последним представителем евразийского течения стал Л.Н. Гумилев.

Пик популярности евразийства приходится на 20-е годы прошлого столетия. Вслед за первым сборником вскоре выходит второй — «На путях: утверждения евразийцев» (Берлин, 1922). С 1923-го по 1927 год выходят три «Евразийских временника» — сборники статей по религиозной, национальной, экономической, культурологической и даже военной проблематике. В 20—30-х годах опубликованы десятки монографий и брошюр евразийских авторов, издаются (хотя и нерегулярно) журналы «Евразийская хроника», «Евразийские тетради», «Версты», в конце 20-х годов в Париже выходила еженедельная газета «Евразия». Евразийское издательство издавало работы участников движения в Берлине, Париже, Праге, Белграде, Софии. В различных странах создавались евразийские кружки, проводились семинары и конференции, велась большая лекционная работа по пропаганде идеологии евразийцев.

О значимости евразийского движения говорит и то, что постоянную полемику с ним вели такие крупные мыслители русского зарубежья, как Н.А. Бердяев, П.Н. Милюков, П.Б. Струве, В.В. Шульгин, И.А. Ильин, Д.Д. Философов и др. Не остались без внимания первые работы евразийцев и в Советском Союзе. В 1929 году Институт красной профессуры выпустил сборник работ под общим названием «Против новейшей критики марксизма», где была опубликована большая статья Н. Иванова (Омского) «Критика марксизма русскими эмигрантами», почти целиком посвященная евразийству, охарактеризованному автором как течение «наиболее правой части кочующей по Европе массы белой эмиграции, а также части наиболее реакционной профессуры, высланной из СССР»[1]. В дальнейшем, однако, понятие евразийства практически полностью исчезает из советской литературы вплоть до конца 80-х годов.
Различные исследователи евразийства называют разные, порой диаметрально противоположные причины его возникновения. Представляется поверхностным объяснение, будто евразийство есть лишь следствие ностальгических ощущений части русской эмигрантской интеллигенции, вынужденно покинувшей Россию, ее растерянности и неуверенности[2].
Неустроенность эмигрантской жизни, чувство тоски по «дыму Отечества», несомненно, сказывались на мироощущении эмигрантской интеллигенции. Факт эмиграции, безусловно, сыграл свою роль, эмоционально окрасив евразийство. Однако акцентирование внимания на нем явно недостаточно.
Главной причиной, породившей евразийство, является уникальность исторической обстановки, которая сложилась на крутом повороте истории в первой четверти ХХ столетия в мире, в Европе и в России. Первая мировая война, падение сразу нескольких империй, две русские революции — все это привело к кардинальным изменениям не только геополитической, но и интеллектуально-духовной ситуации.

Уникальность ситуации требовала принципиально новых подходов для ее объяснения. Нужны были новые нетрадиционные учения, ибо историческая практика того периода показала неприменимость к жизни двух прежних идеологем российской духовной жизни — славянофильства и западничества. Западникам стало чрезвычайно трудно защищать рационалистические позиции, учитывая новые реалии, возникшие в годы массовых катаклизмов и кризисов.
«Закат Европы» Шпенглера — тяжелый теоретический удар не только по неосуществленным западноевропейским идеалам, но и по их российским апологетам.
Вместе с тем весьма ослабла привлекательность панславизма, особенно после того, как в годы мировой войны страны Центральной и Восточной Европы оказались вовлеченными во вражду между собой.
Притягательность евразийства объяснялась, по словам Н.А. Бердяева, и тем, что «это единственное пореволюционное идейное направление, возникшее в эмигрантской среде, и направление очень активное. Все остальные направления, “правые” и “левые”, носят дореволюционный характер и потому безнадежно лишены творческой жизни и значения в будущем»[3].

Евразийцы приняли революцию в России как свершившийся факт, как реальность, которая не может быть повернута вспять. «Евразийское направление обращено к реальной России и реальным в ней жизненным процессам, оно признает факт свершившейся революции с ее перераспределением социальных групп бесповоротным, хочет работать в пореволюционной среде и потому живет не эмигрантскими фантазиями и галлюцинациями, а реальной действительностью»[4]. Не приняв ни коммунистических идей, ни идей реставрации (последние отстаивало большинство эмиграции), евразийцы предложили свой оригинальный проект строительства новой России — Евразии, вызвавший своей новизной большой интерес в русском зарубежье, а у многих его представителей и желание участвовать в его реализации. «Тут за дело взялись не дилетанты и политические доктринеры, а люди, прошедшие научную школу, владеющие искусством изощренного анализа»[5].
Истоки евразийства
Идеи, близкие по духу к евразийству, имплицитно присутствовали уже в трудах русских мыслителей XIX в. В конце ХIХ — начале ХХ века они буквально носились в воздухе, рождая своеобразное евразийское «мироощущение» и «умонастроение» (Н.С. Трубецкой) у представителей русской интеллигенции. И если в начале ХIХ века мы обнаруживаем лишь отдаленные аспекты будущих евразийских построений (С.С. Уваров), то через несколько десятков лет они выльются уже в целый ряд протоевразийских гипотез и теорий.
Многое было почерпнуто евразийцами в идейных «закромах» славянофилов, особенно в плане методологии, отрицающей западничество: «мы решительно отвергаем существо западничества, т. е. отрицание самобытности и… самого существования нашей культуры»[6].

Подтверждением глубинных истоков евразийства является обнаружение его «элементов», «евразийского подтекста» в работах целого ряда мыслителей, писателей, ученых, естествоиспытателей, историков, философов. Они были выражены главным образом в трех взаимосвязанных идеях: 1) полинародность субъекта российской истории и его целостности; 2) глубокая взаимосвязь жизни народа и государства с естественными природными условиями их местонахождения; 3) идея генезиса российской государственности в татаро-монгольской империи Чингисхана.
Уже Н.М. Карамзин в начале ХIХ века показал, что субъектом российской истории является не один русский народ, но и многие другие народы, в разное время населявшие территорию Российского государства. Подчеркивает историк и роль татаро-монголов в создании Московского государства. «Могло пройти еще сто лет и более в княжеских междуусобиях: чем закончились бы оные? Вероятно, погибелью нашего отечества: Литва, Польша, Венгрия, Швеция могли бы разделить оное; тогда мы утратили бы и государственное бытие и Веру, которые спаслися Москвою; Москва же обязана своим величием ханам»[7].
Карамзин отмечал также «одним из достопамятных следствий татарского господства над Россиею возвышение нашего Духовенства, размножение монахов и церковных имений… Политика Ханов… покровительствовала Церковь и ее служителей; изъявляла особенное к ним благоволение»[8]. «Удивительную сметливость татар» в отношении к русскому духовенству, несшему в себе искры византийской образованности, отмечал А.С. Пушкин[9].
Близкие позиции занимал востоковед, друг Пушкина Н.Я. Бичурин[10], показавший в своих работах большое влияние на русскую культуру восточных культур. Востоковед В.В. Бартольд подчеркивал, что Россия изначально должна была подвергнуться гораздо большим восточным влияниям, чем западноевропейские страны[11]. «Евразийский подтекст» наглядно проявляется во многих произведениях историков В.О. Ключевского и С.М. Соловьева, особенно в обосновании ими роли природной среды в «созидании истории Российской».
Гидрологическая теория развития цивилизаций Л.И. Мечникова, этнографические концепции А.П. Щапова и М.К. Любавского, определение России как «срединного царства» В.И. Ламанским и Д.И. Менделеевым, подчеркивание последним важной роли в его становлении «голоса монголотатарских народов»[12] — все это говорит о предпосылках определенного «евразийского» умонастроения, на основе которого евразийцы впоследствии создали целостную теорию исторического, геополитического, культурного, этнографического единства России — Евразии как особого геоприродного, исторического и социокультурного мира.

Если отношение евразийцев к западничеству однозначно негативное, то отношение к творчеству славянофилов двойственное. С одной стороны, евразийцы признавали себя продолжателями той традиции русского философского и исторического мышления, к которой они относили и «мыслителей славянофильского направления»[13]. Несомненно также и то, что евразийцы разделяют славянофильскую идею соборности, идею органического единства, пронизывающего церковь, общество и человека. С другой стороны, евразийцы отрицали идею славянского единства, считая, что русский цивилизационный тип без остатка не сводится к славянскому, поскольку включает в себя и «туранский элемент».
Идеи Данилевского о самоценности каждой национальной культуры, о невозможности вычленения одной культуры в качестве критерия и трафарета для всех других пользовались особой популярностью у евразийцев.
Подвергая критике славянофилов за их «абсолютизацию славянства», выразившуюся прежде всего в подчеркивании главенствующей роли в русской культуре славянской крови и языка, — «что совершенно несправедливо по отношению к финской и туранской вообще крови»[14], — евразийцы обращаются к творчеству К.Н. Леонтьева. «Только Леонтьев решился сформулировать выводы своего богатого и непредвзятого опыта и мужественно выступить против растворения русской культуры в отвлеченном и романтическом панславизме. Но на его слова никто не обращал внимания… Евразийцы обратили… И не только обратили, но и активно использовали в своем учении… самобытные идеи неузнанного гения»[15].
Философия культуры
Уже в рассуждениях позднего Леонтьева просматривается евразийская линия, проявившаяся спустя тридцать лет после смерти «неузнанного гения» в книге кн. Н.С. Трубецкого «Европа и человечество» (1920).
В этой работе выдвинуты основные идеи в области философии культуры, ставшие в дальнейшем методологической базой евразийского учения, ибо «весь смысл и пафос наших утверждений сводится к тому, что мы осознаем и провозглашаем существование особой евразийско-русской культуры и особого ее субъекта, как симфонической личности» (выделено мной. — В.П.)[16].
Книга Н.С. Трубецкого — это интеллектуальный бунт против абсолютизации романо-германской культуры, отождествляемой с европейской. Не отрицая значимости этой культуры, Н.С. Трубецкой предлагает рассмотреть правомерность «притязаний романо-германцев» на звание носителей культуры общечеловеческой. Принять или не принять в качестве таковой культуру романо-германскую можно, по мнению Н.С. Трубецкого, лишь ответив на три следующих вопроса:

1. Можно ли объективно доказать, что культура романо-германцев совершеннее всех прочих культур, ныне существующих или когда-либо существовавших на земле?
2. Возможно ли полное приобщение народа к культуре, выработанной другим народом, притом приобщение без антропологического смешения этих народов?
3. Является ли приобщение к европейской культуре (поскольку оно возможно) благом или злом?
Только при положительном решении всех этих вопросов «всеобщая европейская культура может быть признана необходимой и желательной»[17], — считает Н.С. Трубецкой. Заметим сразу, что сам Трубецкой отвечал на все три вопроса отрицательно. При сравнительном анализе различных культур автор приходит к убеждению, что используемые в истории культуры моменты оценки, различные критерии, вводимые для определения высших и низших культур, должны быть изгнаны из науки как необъективные. Вместо градационного принципа классификации народов и культур по степеням совершенства необходимо ввести новый принцип — принцип «равноценности и качественной несоизмеримости всех культур и народов»[18].
По Трубецкому, полное приобщение к культуре другого народа, — когда усвоивший новую культуру народ начинает считать ее своею и оба народа сливаются в одно культурное целое, — возможно лишь при антропологическом смешении. Без такового «полное приобщение целого народа к культуре, созданной другим народом, — дело невозможное»[19].
Стремление европеизировать свою культуру, считает Н.С. Трубецкой, ставит неевропейский народ в крайне невыгодное положение, ибо развитие его собственной культуры протекает в более трудных условиях, нежели культурная работа природного европейца. Первому приходится искать в разных направлениях, тратить свои силы на согласование элементов двух разнородных культур, сводящееся по большей части «к мертворожденным попыткам; ему приходится выискивать подходящие друг к другу элементы из груды ценностей двух культур, — тогда как природный романо-германец идет верными путями, проторенной дорожкой, не разбрасываясь и сосредотачивая свои силы лишь на согласовании элементов одной и той же культуры, элементов вполне однородных, окрашенных в один общий тон родного ему национального характера»[20].
Но самую большую опасность европеизации Н.С. Трубецкой видит в уничтожении в результате этого процесса «национального единства», в расчленении национального тела европеизируемого народа. Учитывая тот факт, что приобщение к другой культуре происходит не в одночасье, а на протяжении жизни многих поколений и что каждое поколение вырабатывает «свой канон синтеза элементов национальной и иноземной культуры», Н.С. Трубецкой приходит к выводу, что «в народе, заимствовавшем чужую культуру… различие между “отцами и детьми” будет всегда сильнее, чем у народа с однородной национальной культурой»[21].

Процесс расчленения нации сопровождается обострением «классовой борьбы, затрудняет переход из одного класса общества в другой»[22], усиливает противостояние одних частей общества другим и «препятствует сотрудничеству всех частей народа в культурной работе»[23]. По сравнению с «природными романо-германцами» социальная жизнь этого народа обставлена такими трудностями, что его деятельность оказывается малопродуктивной, он творит мало и медленно и во мнении европейцев всегда остается отсталым народом. К такому мнению о собственном народе приходит и его уже европеизированная часть. И чем больше европеизируется народ, тем более он укрепляется в мысли о превосходстве европейцев, «и это сознание вместе с постоянным сетованием о своей косности и отсталости постепенно приводит к тому, что народ перестает уважать самого себя»[24] (выделено мною. — В.П.).
И уже к своей истории этот народ будет подходить с одной — европейской — меркой: все, что идет в унисон с европейской культурой, будет оцениваться им как положительное и прогрессивное, все остальное — как реакционное, косное, негативное. «Постепенно народ приучается презирать все свое, самобытное, национальное… Патриотизм и национальная гордость в таком народе — удел лишь отдельных единиц, и национальное самоутверждение большею частью сводится к амбициям правителей и руководящих политических кругов»[25].
Н.С. Трубецкой утверждает, что все эти негативные последствия произрастают из самого факта европеизации и не зависят от степени ее интенсивности и целостности. Даже если процесс европеизации достигнет своего максимума и европеизируемый народ максимально приобщится к европейской культуре, то и тогда он, «благодаря длительному и трудному процессу культурной нивелировки всех своих частей и искоренению остатков национальной культуры, — окажется все-таки в неравных условиях с романо-германцами и будет продолжать “отставать”. И это отставание приобретает статус “рокового закона”»[26].
Действие этого «рокового закона» приводит к тому, что «отставший народ» в семье цивилизованных народов лишается «сначала экономической, а потом и политической независимости», и, наконец, становится объектом беззастенчивой эксплуатации, которая вытягивает из него все соки и превращает его в «этнографический материал»[27].
В результате проведенного анализа Трубецкой приходит к выводу: «последствия европеизации настолько тяжелы и ужасны, что европеизацию приходится считать не благом, а злом»[28]. И поскольку это «зло великое», то с ним необходима борьба, которую должна возглавить интеллигенция европеизируемого народа. Именно интеллигенция как наиболее интеллектуально развитая часть народа раньше других должна понять гибельность европеизации и решительно стать на борьбу с ней.
Таким образом, главное положение евразийской культурологии заключается в том, что культура России не есть культура европейская, не есть одна из азиатских культур и не есть сумма или механическое сочетание элементов той и других. Это совершенно особая, специфическая культура. «Культура — органическое и специфическое существо, живой организм. Она всегда предполагает существование осуществляющего себя в ней субъекта, особую симфоническую личность»[29]. Аргументированное обоснование этих основных выводов евразийской культурологии дано прежде всего в евразийской историософии.
Историософия евразийцев

Историософская концепция евразийства представлена в работах Г.В. Вернадского, П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого, Л.П. Карсавина, Л.Н. Гумилева, Э. Хара-Давана и др. Несмотря на некоторые различия в трактовке частных вопросов, в целом историософия евразийства представляет собой достаточно аргументированную теорию, опирающуюся в своих общих выводах на достижения источниковедения, археологии, исторической хронологии, дипломатики и других специальных исторических дисциплин.
Одной из главных задач своей историософской концепции евразийцы считают полемику с бытующей традицией рассмотрения Российского государства как преемника Киевской Руси.
Именно этот стереотип — Россия есть прямая преемница Киевской Руси — евразийцы считают главной ошибкой всей русской историософии. Живучесть ее объясняется, по мнению евразийцев, поддержкой европеизировавшегося слоя русской интеллигенции, стремившегося называть жителей Российского государства европейцами, носителями европейской культуры. Между тем, как отмечается в одном из первых программных сборников евразийцев, «русские люди и люди российского мира не суть ни европейцы, ни азиаты. Сливаясь с родною и окружающей нас стихией культуры и жизни, мы не стыдимся признать себя евразийцами»[30].
Ключевым термином для доказательства этого тезиса служит введенное в научный оборот евразийцами понятие — месторазвитие. Месторазвитие — это не просто географическая среда, это своеобразное социально-историческое пространство, в котором «социально-историческая среда и географическая обстановка сливаются в некое единое целое, взаимодополняя друг друга»[31]. В соединении с социально-историческим временем месторазвитие создает неразрывный социальный пространственно-временной континуум[32]. Евразия является таким месторазвитием для десятков народов, этносов, которые привносят свою долю экономической, хозяйственной, культурной деятельности в его становление.

Согласно евразийским утверждениям, громадный материк, включающий в себя Восточно-Европейскую, Западно-Сибирскую и туркестанскую равнины вместе с возвышенностями, отделяющими их друг от друга (Уральская гора и так называемый Арало-Иртышский водораздел) и окаймляющими их с востока, юго-востока и юга (горы Русского Дальнего Востока, Восточной Сибири, Средней Азии, Персии, Кавказа, Малой Азии), представляет собой особый мир, единый в себе и географически отличный как от стран, лежащих к западу, так и от стран, лежащих к юго-востоку и югу от него[33]. Этот огромный материк, в основном совпадающий с границами Российской империи начала ХХ в., и есть историческая родина великого этноса, который сформировал особую культуру. В нее органически вплетены элементы византийской культуры, а также «степной» культуры, оставившей глубокий след в русской жизни, особенно в XIII—XV вв., и культуры европейской, влияние которой начинается с петровских времен и длится по настоящее время.
Но если евразийская культура, формировавшаяся в IX—XV вв., появлялась на основе антропологического смешения различных племен и становилась органически культурой одного этноса, не сводимой ни к азиатским, ни к европейским культурам, то романо-германская — европейская — культура пыталась просто подчинить себе евразийскую культуру, но без антропологического смешения. И этот поворот России к Европе «затушевал исконный антагонизм и способствовал помутнению национального самосознания»[34]. Не замечая своего безболезненного расширения в Азии, не углубляясь в собственную сущность, Россия в лице своего европеизировавшегося правящего слоя начала считать себя частью Европы. Этот процесс, стремительно усилившийся с эпохи Петра I, привел к тому, что русские люди стали гордиться не тем, чем они были, «а тем, чем они хотели стать — аванпостом Европы и европейской культуры в борьбе с иными культурами, в том числе и со своею собственною. Они стали стыдиться своего как варварского»[35].
Как уже отмечалось, евразийцы, резко критикуя западничество, не соглашаются и с панславистской трактовкой истории России, которая, по их мнению, страдает существенным недостатком — механическим смешением этнических групп, считающихся славянскими. «Надо осознать тот факт: мы (евразийцы. — В.П.) не славяне, не туранцы (хотя в ряду наших биологических предков есть и те, и другие), а русские. Мы должны констатировать особый этнический тип, на периферии сближающийся как с азиатским, так и с европейским и, в частности, конечно более всего, славянским, но отличающийся от них резче, чем отличаются друг от друга отдельные “соседние” в нашем ряду его представители»[36].

Сходство и связи отдельных неславянских народов — чувашей, татар, угро-финнов и т.д. — с русскими гораздо более близкие, чем, например, с европеизированными чехами или сербами, считают евразийские историки и этнографы.
Евразийцы называют свою историософскую концепцию «взглядом с Востока». В соответствии с такой позицией Киевская Русь могла быть названа государственным объединением весьма условно и приблизительно. Киевская Русь, утверждает Н.С. Трубецкой, будучи отрезанной от морских бассейнов широкими степными просторами, где полными хозяевами были кочевники, не могла ни расширить свою территорию, ни укреплять свою государственную мощь, ни даже в достаточной мере контролировать торговлю на знаменитом пути «из варяг в греки», так как он все время находился под угрозой половцев, печенегов и других кочевников в нижнем течении Днепра. «Отсутствие экономического будущего приводило и к отсутствию будущего политического, в результате чего Киевской Руси оставалось только разлагаться и дробиться на мелкие княжества, постоянно друг с другом воюющие и лишенные всякого более высокого представления о государственности»[37].
Сходной точки зрения по поводу происхождения русской государственности придерживался Л.Н. Гумилев. Единственное расхождение между Трубецким и Гумилевым касается вопроса о количестве государственных объединений на территории Евразии. Трубецкой уверен, что в Евразии, самой природой предназначенной для единства географического, этнологического, экономического, государственная система выкристаллизовалась под руководством Чингисхана, и после падения его империи «русское государство инстинктивно стремилось и стремится воссоздать это нарушенное единство и поэтому является наследником, преемником, продолжателем исторического дела Чингисхана»[38].
По мнению же Л.Н. Гумилева, континент Евразия за исторически обозримый период объединялся три раза. «Сначала его объединили тюрки, создавшие каганат, который охватывал земли от Желтого моря до Черного. На смену тюркам пришли из Сибири монголы. Затем после периода полного распада и дезинтеграции инициативу взяла на себя Россия: с XV в. русские двигались на Восток и вышли к Тихому океану. Новая держава выступила, таким образом, наследницей тюркского каганата и Монгольского Улуса»[39]. Еще дальше в глубь истории идет Вернадский, предлагающий искать начальные элементы евразийской государственности в державах скифов, сарматов, готов и гуннов[40].
Однако и Трубецкой, и Гумилев, и Вернадский согласны в том, что материк Евразия самой природой предназначен для единого государства, для единого этноса, отличного как от этноса европейского, так и от азиатского. Это отличие проявляется прежде всего в евразийской культуре — самобытном образовании, не принадлежащем ни к европейской, ни к азиатским культурам. Что же касается непосредственного предшественника российской государственности, то здесь все авторы едины: им была Великая Монгольская империя, созданная Чингисханом, и в частности ее Джучиев Улус, а не Киевская Русь. Тезис, согласно которому государство Российское является прямым наследником империи Чингисхана, произвел шокирующий эффект, равно как и утверждения П. Савицкого, что «без татарщины не было бы России» и «великое счастье Руси, что в момент, когда в силу внутреннего разложения она должна была пасть, она досталась татарам и никому другому»[41].
По мнению евразийцев, первым это осознал Александр Невский, который пошел на союз с Батыем, согласился стать его данником, но вместе с тем оградил Россию от западного католицизма и западной культуры вообще. «Погубивши тело, мы спасем свою душу», — эти слова Александра Невского символизировали для евразийцев подлинно русский (евразийский) патриотизм.
Одной из важнейших черт государственности, присущих империи Чингисхана, которая в значительной степени была воспринята Российским государством, является строгая иерархическая система власти во главе с верховным руководителем, наделенным неограниченными правами. Эта жесткая иерархичность власти, построенной по принципу воинских подразделений (десяток — сотня — тысяча — десять тысяч), в Монгольской империи воспринималась не как необходимость, исходящая от воли конкретной личности — руководителя любого ранга, а как осуществляемая воля Божества. Повиновение означало не просто подчинение своему непосредственному начальнику, а подчинение Божественной воле. Естественно, что подобному императиву должен отвечать определенный психологический тип личности. Люди этого типа ставят свою честь и достоинство выше своей безопасности и материального благополучия. Они не боятся потери материальных благ и даже самой жизни, а боятся лишь совершить поступок, который может их обесчестить или умалить их достоинство. В сознании этих людей всегда живет особый кодекс, устав допустимых и недопустимых для честного и уважающего себя человека поступков. Нарушение этого кодекса для них страшнее смерти. «Уважая себя самих, они уважают и других, хранящих тот же внутренний устав, особенно тех, кто свою стойкую преданность этому уставу доказал на деле»[42].
Заметим сразу, что утрату подобных нравственных императивов многими русскими людьми, особенно их лидерами, евразийцы относят к одному из самых отрицательных последствий «европеизации» России.
Но есть и иной тип личности — личность с рабской психологией. Для людей с рабской психологией их «материальное благополучие и безопасность выше их личного достоинства и чести»[43]. Такие люди способны на предательство, измену, трусость. Они подчиняются своим господам не в силу высоких моральных качеств, а из-за страха потерять свою жизнь или свое имущество. Они заложники собственного страха. Когда человек, которому они подчинены, обладает властью, эти люди «лижут ему сапоги» и по-собачьи преданно его славословят, но при перемене судьбы господина они с таким же рвением его предают, изощряясь в предательстве самым разнузданным образом.
По убеждению евразийцев, к управлению государством могут быть допущены только люди первого психологического типа. Проникновение в государственные структуры людей второго типа смертельно опасно для нравственного здоровья общества, для самого существования государства.

Другой важнейшей особенностью татаро-монгольской государственности, так или иначе воспринятой государством Российским, является ее отношение к религии. Религиозная терпимость, столь поражающая исследователей татаро-монгольской эпохи, была, как считает Н.С. Трубецкой, не «следствием индифферентизма или пассивного безразличия» руководителя великой империи. Дело в другом. Для Чингисхана было безразлично только то, к какой религии принадлежали его подданные, но отнюдь не отсутствие религиозности. «Поэтому он не просто пассивно терпел в своем государстве разные религии, а активно поддерживал все эти религии»[44], которые способствовали созданию особо ценимого первого психологического типа личности. Характеристика людей, их место и роль в государственной иерархии не зависели от исповедуемой ими религии, от принадлежности к какому-либо богословию или к какой-либо нации. «Высшие посты могли заниматься не только аристократами, но и выходцами из низших слоев народа; правители принадлежали не все к одному народу, а к разным монгольским и татаро-монгольским племенам и исповедовали разные религии. Но важно было, чтобы все они по своему личному характеру и образу мышления принадлежали к одному и тому же психологическому типу…»[45] При этом подразумевалось, что носителями подобного психологического типа могут выступать кочевники, люди не угнетенные и не развращенные материальными «благами цивилизации», привыкшие обходиться малым и не испытывающие при этом зависти к оседлым земледельцам и горожанам.
Евразийцы, имеющие свой собственный взгляд на историю государственности России как на восприемницу государственности монголо-татарской империи, вовсе не идеализируют последнюю, более того, подчеркивают, что русскими людьми она воспринималась враждебно, ибо унижала национальное достоинство. В ответ на это «в русских душах и умах поднималась, росла и укреплялась волна преимущественно религиозного, но в то же время и национального героизма»[46].

Возникло противоречие: с одной стороны, величие монгольской государственной идеи, стоящей гораздо выше примитивной «удельно-вечевой» домонгольской идеи, а с другой — ощущение ее «чуждости и враждебности». Это противоречие было снято русской национальной мыслью, которая «обратилась к византийским государственным идеям и традициям и в них нашла материал, пригодный для оправославления и обрусения государственности монгольской»[47]. Таким образом, идея монгольской государственности вновь ожила, но уже в иной форме, «сотворилось чудо превращения монгольской государственной идеи в государственную идею православно-русскую»[48].
Эта идея стала воплощаться в реальности с распадом великой монгольской империи и приходом ей на смену Российского государства, превратившегося из провинции (улуса) чингисхановской империи в великое государство Евразию. «Общеевразийская государственность перешла к русским, которые сделались ее преемниками и носителями»[49], а Москва стала «новой объединительницей евразийского мира»[50].
«Евразийский проект»
Теоретические построения евразийства никогда не были самоцелью для их авторов. Осмысление общих социально-философских проблем сочетается у них с напряженным духовным поиском той конкретной конструктивной программы, которую они должны были предложить народу, вернувшись в Россию после падения большевизма. В том, что это осуществимо, они нисколько не сомневались, ибо были искренне уверены, что западническая идеология марксизма и основанная на ней политическая практика большевиков — с ее абсолютизацией роли одного класса, пролетариата, вместо традиционной соборности русского народа, а также противопоставление воинствующего атеизма подлинно народному православно-религиозному чувству русских людей — не выдержат испытания временем.
Евразийское движение разрабатывает конструктивную, по мнению его представителей, программу действий — «евразийский проект» обустройства России — Евразии после гибели коммунистического режима. При этом они исходят из того, что в России необходимо продолжение, а не моментальный слом традиций, установленных уже после революции советской властью. Главное не сломать, а очистить от коммунистической идеологии множество новых социальных образований, появившихся после революции. Приоритетность идеологических преобразований обусловливалась широкими творческими исканиями среди народных масс, которые интуитивно тянулись к идеям религиозным и соборным; т. е. народу, органически отвергшему коммунистическую идеологию и находящемуся как бы в идеологическом вакууме, «необходима новая идеология и необходима как носительница ее новая партия, не менее одушевленная и сплоченная, чем первые большевики»[51]. Хотя по форме и структуре новая партия или союз напоминает большевистскую, но по идеологии (а это главное содержание деятельности партии) она ей противоположна. И прежде всего потому, что идеология новой партии — «сознательно-религиозная, православная и не облегченно-интернациональная, а евразийско-русская»[52].
В «евразийском проекте» одной из важнейших задач является построение в России — Евразии «идеократического» и «демотического» государства, что органически вытекает из особой культуры евразийских народов, в душе которых «слышится особый созвучный ритм», позволяющий этим народам достичь такой степени взаимного понимания и таких форм братского сотрудничества, которые «трудно достижимы для них в отношении народов Европы и Азии (т. е. не евразийских народов. — В.П.)»[53].
Евразийцы отвергают идею единоличной власти как не соответствующую их философским и культурологическим установкам симфонической личности и «многоединства» социального субъекта. Не приемлют они в качестве образца и государственное устройство стран Запада, ибо в них «совершенно не управляет страной “народ” (демос); почти не управляет парламент, немного управляет кабинет министров, а более всего бюрократы, единственный постоянный элемент власти»[54].

Евразийский проект государственного устройства провозглашает его надклассовый характер, а первым условием его существования — образование социальной внеклассовой группы, основным и главным признаком которой является «исповедание евразийской идеи, подчинение ей, “подданство”»[55].
Выдвижение на первое место в общественной жизни идей, а в государственном строительстве — «идеи-правительницы» вытекает из методологических установок евразийцев, прямо противоположных традициям материалистической философии. «Евразийство по основному своему духу религиозно и метафизично, потому что нет ничего более далекого от евразийства, чем материалистический антропологизм, — все равно, формулируется ли он в абстрактно-индивидуалистическом виде, как у Фейербаха, или принял социально-исторические формы, как у Маркса»[56]. Именно поэтому в государственном устройстве, да и вообще в любом социальном организме «более реально и ощутимо, чем люди и учреждения, правят идеи»[57].
В евразийском государстве такой идеей-правительницей является идея России — Евразии, которую можно формулировать как «идею социально-политической справедливости, “правды”, и даже — как идею справедливой социально-политической жизни ради других, для индивидуума — ради народа и других индивидуумов, для народа — ради человечества и других народов»[58]. Как справедливо отмечает И.А. Исаев, «идея-правительница не может быть рационально понята до конца. Это — мотив культурной деятельности, питающий ее источник; она переживается, но часто не осознается. Колыбелью ее является духовное самосознание и реальный опыт правящего слоя данной национальной культуры»[59]. Внутренним источником этой идеи является высшая симфоническая личность, олицетворяющая духовные потребности науки, а носителем ее в государстве идеократии, государстве «идеи-правительницы» является «правящий отбор».
Политическую «выжимку» из теоретических построений евразийских мыслителей о государственном устройстве России — Евразии дал первый съезд Евразийской организации, состоявшийся в 1932 году. «Евразийское государство есть государство идеократическое, где властвуют не люди, но идея, вызвавшая к жизни данное государственное образование и оправдывающая его. Однако властное осуществление этой идеи происходит посредством ведущего отбора — группы людей, связанных единством мировоззрения (т. е. идейным единством), посвятивших себя служению идее-правительнице и в силу этого призванных управлять государством»[60].
Но правящий отбор не подменяет собой органы народного управления. «Эти органы комплектуются как из членов ведущего отбора, так и из свободно избранных населением представителей всех интересов страны, к ведущему отбору не обязательно принадлежащих. С этой стороны евразийское государство является демотическим»[61].
Правящий отбор — это нечто вроде евразийской политической партии, но партии «особого типа», которая не делится властью с другими партиями, а скорее существует как единственно верная партия, опиравшаяся на единственно верную идеологию — евразийство. Сторонники единой идеологии, евразийцы выступали против многопартийности, считая, что это ведет к размыванию идеи-правительницы и повышает социальную напряженность.
Что касается экономики, которой евразийцы придавали весьма важное значение, несмотря на приоритетность во всех областях жизни идеологии, то она представляется как элемент «общего дела», а не как элемент «личной наживы». В связи с этим формулируется и отношение к частной собственности. «Частная собственность как таковая противоречит идее блага социального целого, поэтому евразийство требует свободы не для частной собственности, а для частно-хозяйственной инициативы. Это вытекает из установки на благо социального целого»[62].
В противовес коммунизму, который, по мнению евразийцев, рассматривает экономическое строительство как «цель в себе», в силу чего его экономические установки, прежде всего на всеобщее обобществление, «превращаются в догмы», евразийство «утверждает тот экономический строй, который реально наиболее полно осуществляет принцип справедливости и общего дела. Праведный строй Государства Труда, общего дела и общего строительства может быть осуществлен тогда, когда вовлечение всех трудящихся в творческое строительство экономической жизни будет сопряжено в России — Евразии с хозяйственным самоопределением личности»[63].
Евразийство и современность. Судьбы учения
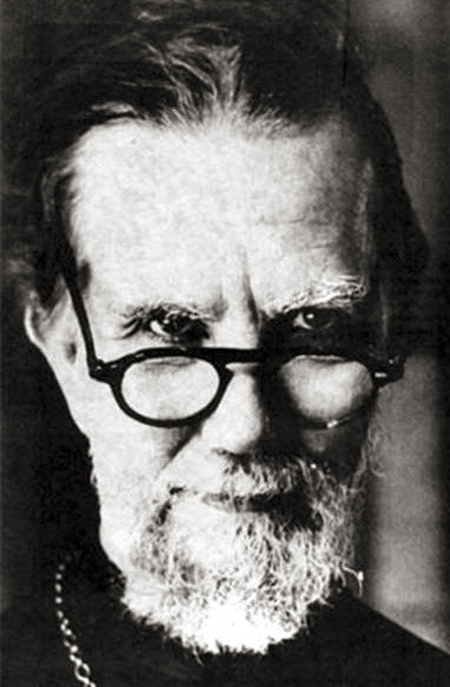
Евразийство было единственным в русском зарубежье движением, признавшим революцию в России свершившимся фактом, процессом необратимым в плане социального времени. Евразийцы признавали, что Октябрьская революция не «разинщина и не пугачевщина» и тем более не организованный бунт заговорщиков, «прибывших в запломбированных вагонах, а прежде всего результат “саморазложения императорской России”». «В революционной анархии, начавшейся еще до войны и достигшей апогея в эпоху временного правительства, с полной ясностью обнаружился давний трагический разрыв между народом… и правящим слоем»[64]. По мнению Г.В. Флоровского, большевики инстинктивно ощущали этот разрыв и стремились устранить причины, его вызвавшие. «Как бы ни относиться к программам большевиков в смысле соответствия реальным потребностям исторической жизни, необходимо признать верность руководимого ими инстинкта: они поняли, что нужно ломать и созидать заново»[65].
Но пришедший в результате революции новый «правящий слой» — большевики не смогли «объять», объединить народ России новой идеологией, поскольку эта идеология была атеистичной, безбожной и, более того, европейской. Она не могла овладеть массами органично и насаждалась с помощью насилия. Проводником насилия стала «великолепно организованная и властная до тираничности» большевистская коммунистическая партия, поэтому ее место должна занять новая евразийская партия с лежащей в ее основе евразийской идеей-правительницей.

В том, что евразийская идея должна заменить идею коммунистическую, а «правящий отбор» — партию большевиков, никто из евразийцев не сомневался, здесь они были единодушны. Но разные представления о механизме этой замены, сроках и методах, наконец, вопрос о том, что можно использовать в наследии большевиков, разделили евразийцев на несколько групп. И если большинство парижской группы, концентрирующейся в основном вокруг газеты «Евразия» (Святополк-Мирский, Эфрон), выступали за «широкое понимание» ряда большевистских преобразований, особенно в области государственного строительства и межнациональных отношений, то пражская группа (Савицкий, Алексеев) считала такое «понимание» невозможным. Между этими крайностями находились группы участников движения, занимающие «центристские» позиции.
Поводом для политического раскола движения послужила позиция газеты «Евразия», которую «пражская группа во главе с П.Н. Савицким объявила не евразийской за ее откровенно пробольшевистскую ориентацию и попытки найти доктринальное единство евразийства и марксизма»[66].
К середине 30-х годов евразийство как общественно-политическое движение прекратило свое существование. Но это отнюдь не означало забвения евразийских идей. Достаточно сказать только лишь о творчестве Л.Н. Гумилева, который в своих многочисленных публикациях наполнил основополагающие евразийские идеи в области культурологии, историософии, этнографии, россиеведения новым содержанием, учитывающим последние достижения целого ряда наук — от археологии до геополитики. «Если Россия будет спасена, то только как евразийская держава…»[67] — это убеждение было результатом глубоких философских научных раздумий «последнего евразийца».
Резко возрос интерес к евразийскому наследию в последние годы, причем не только в России, странах СНГ, но и в дальнем зарубежье. Сегодня с евразийцами говорят как с современниками философы, политологи, публицисты самых разных политических ориентаций. Многие из них находят что-то «свое» в евразийских идеях и исходя из своих узкопартийных интересов пытаются интерпретировать евразийское учение в целом. Пока такие попытки не принесли сколь-либо ощутимых результатов, ибо синтетический характер евразийской доктрины, ее политическая заостренность и методологическая оригинальность позволяют представителям разных политических течений не только выявлять «свое» в евразийстве, но и видеть «чужое», им не подходящее, а следовательно, требующее «удаления».

Сегодня мы можем с полным основанием говорить о «неоевразийстве» — достаточно мощном интеллектуальном направлении среди ученых, идеологов, политиков, концентрирующих свои усилия на поиске интеграционных идей, способных укрепить экономическое, геополитическое единство Евразии. Наряду с этим появляется и множество идей, которые можно назвать «псевдоевразийскими»: Евразия, объединенная исламом, пантюркизмом, Евразия от Атлантики до Владивостока и т.д.
Все это позволяет сказать, что евразийские идеи, выдвинутые молодыми романтиками в 20-е годы прошлого века на крутых поворотах истории, не канули в Лету, а продолжают будоражить общественную мысль и сегодня, на новых крутых поворотах истории.
[1] См.: Против новейшей критики марксизма. М., 1929. С. 238.
[2] Так, социолог Н.И. Чебышев считал, что «евразийство — порождение эмиграции. Оно подрумянилось на маргарине дешевых столовых, вынашивалось в приемных в ожидании виз, разгоралось после спора с консьержками, взошло на малой грамотности, на незнании России теми, кого революция и бешенство застигли подростками» (см.: Возрождение. 1927. 16 февр. Париж).
[3] Бердяев Н.А. Евразийцы // Путь. 1925. № 1. С. 134.
[4] Бердяев Н.А. Утопический этатизм европейцев. В кн.: Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн. М., 1993. С. 301.
[5] Люкс Л. Евразийство и консервативная революция // Вопросы философии. 1996. № 3. С. 59.
[6] Евразийство: Опыт систематического изложения. Париж, 1926. С. 33.
[7] Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 1993. Т. 5. С. 208.
[8] Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 5. С. 208.
[9] См.: Пушкин А.С. Собр. соч. в 10 т. М., 1981. Т. 6. С. 206.
[10] См.: Кривцов В. Отец Иоакинф. М., 1984.
[11] См.: Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России. СПб., 1911.
[12] Менделеев Д.И. Сочинения. Л.; М., 1954. Т. ХХI. С. 428.
[13] Савицкий П.Н. Евразийство. В кн.: Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М., 1993. С. 103.
[14] Евразийство: Опыт систематического изложения. С. 30.
[15] Евразийство: Опыт систематического изложения. С. 30.
[16] Там же. С. 33.
[17] Трубецкой Н.С. Европа и человечество. София, 1920. С. 5.
[18] Там же. С. 42.
[19] Там же. С. 53.
[20] Евразийство: Опыт систематического изложения. С. 59.
[21] Там же. С. 63.
[22] Там же. С. 64.
[23] Там же.
[24] Там же. С. 65.
[25] Там же. С. 65—66.
[26] Трубецкой Н.С. Европа и человечество. С. 67.
[27] Трубецкой Н.С. Европа и человечество. С. 67. Чем не характеристика нынешнего положения и положения ближайшего будущего народов нашей страны? Говорите после этого, что нет пророков в своем Отечестве.
[28] Там же. С. 70.
[29] Там же. С. 32.
[30] Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждения евразийцев. София, 1921. С. 11.
[31] Вернадский Г.В. Начертание русской истории. Евразийское книгоиздательство, 1927. С. 9.
[32] Термин из квантовой механики, характеризующий единство пространства и времени в микромире.
[33] Савицкий П.Н. Евразийство // Наш современник. 1992. № 2. С. 145.
[34] Кн. Трубецкой Н.С. Европа и человечество. София, 1920. С. 17.
[35] Евразийство: Опыт систематического изложения. С. 30.
[36] Там же. С. 31.
[37] См.: Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1991. № 4. С. 33.
[38] Там же. С. 38.
[39] Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. М., 1992. С. 297—298.
[40] См.: Вернадский Г.В. Начертание русской истории. С. 13—18.
[41] На путях. Утверждения евразийцев. Берлин, 1922. С. 342.
[42] См.: Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. С. 39.
[43] Там же.
[44] Там же. С. 42.
[45] Там же. С. 42—43.
[46] Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. С. 44.
[47] Там же. С. 46.
[48] Там же.
[49] Там же.
[50] Там же. С. 72.
[51] Там же. С. 51.
[52] Там же. С. 52.
[53] См.: Евразийство: декларация, формулировка, тезисы. София, 1932. С. 7.
[54] Карсавин Л.П. Государство и кризис демократии // Новый мир. 1991. № 1. С. 118.
[55] См.: Евразийство: декларация, формулировка, тезисы. С. 14.
[56] Алексеев Н.Н. Евразийство и марксизм // Евразийский сборник. Кн. VI. Прага, 1929. С. 9.
[57] Трубецкой Н.С. Об идее-правительнице. В кн.: Трубецкой Н.С. История, язык, культура. Вена — Москва, 1995. С. 439.
[58] Евразийство: Опыт систематического изложения. С. 72.
[59] Исаев И.А. Утописты или провидцы? В кн.: Пути Евразии. М., 1992. С. 21.
[60] Евразийство: декларация, формулировка, тезисы. С. 24.
[61] Там же. С. 16.
[62] Там же. С. 21.
[63] Там же. С. 18.
[64] Евразийство: Опыт систематического изложения. С. 146.
[65] Флоровский Г.В. О патриотизме праведном и греховном // На путях. Утверждения евразийцев. Кн. 11. Берлин, 1922. С. 235.
[66] Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн. М., 1993. С. 23
[67] Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии. М., 1993. С. 25.
